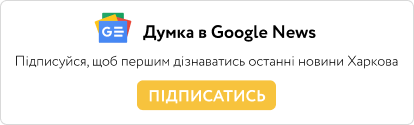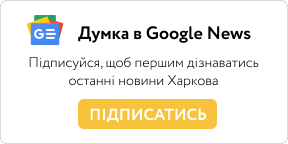Тарас Чмут: Без западного оружия война для Украины уже была бы закончена

События после 24 февраля этого года часто называют "новой волной" российского вторжения. И сейчас Украина в целом переживает то, что произошло во время первой волны 2014 года, но в значительно больших масштабах, с большим количеством оружия, разрушений и человеческих жертв. Это коснулось и волонтерской деятельности – если в предыдущие несколько лет к помощи армии было приобщено достаточно небольшое количество украинцев, то с новой волной вторжения объемы и интенсивность волонтерства выросли многократно.
Как рассказал РБК-Украина Тарас Чмут, руководитель "Вернись живым" – крупнейшего украинского фонда по помощи Вооруженным силам – сейчас его фонд за два дня собирает больше, чем за весь прошлый год. С начала полномасштабной войны и только к середине мая "Вернись живым" аккумулировал 3,5 миллиарда гривен. Соответственно, это позволяет реализовывать масштабные проекты по помощи армии с многомиллионными бюджетами.
Кроме волонтерства, РБК-Украина поговорило с Чмутом – бывшим морпехом и участником войны на Донбассе – и о прошлых боях за Херсон и Мариуполь, и о текущей битве за Северодонецк, и о том, как война будет продолжаться дальше. Чмут далек как от шапкозакидательских настроений о скорой безусловной победе над агрессорами, так и от "всепропальства". По его словам, в будущем Украина "однозначно выиграет", но до этой победы могут пройти еще много лет.
– Уже много недель в Киеве – если не смотреть новости и не обращать внимание на воздушные тревоги – война почти не чувствуется. С одной стороны, это хорошо: люди возвращаются к нормальной жизни, запускается бизнес, экономика. С другой стороны, не видишь ли ты риска того, что общество снова расхолодится и начнет воспринимать войну, как некие события далеко на Востоке – как это было годами до 24 февраля? Где-то там под Северодонецком какое-то село потеряли, какое-то отбили, это все где-то далеко и нас не касается. И это в частности может ударить и по волонтерскому движению.
– С одной стороны, действительно, государство, общество и страна должны существовать в нормальном режиме, когда экономика работает и люди живут. Собственно, это один из факторов, за который мы воюем – чтобы жить своей нормальной жизнью.
С другой стороны – это задача государства, не убирать войну из информационного поля и готовиться к тому, что эта война может быть надолго. И здесь надо исходить как из краткосрочных вопросов, потребностей и проблем, так и из среднесрочных и долгосрочных.
Представьте, что мы сейчас воюем в таком формате 10 лет, только эти города – Северодонецк, потом Славянск, потом где-то возле Харькова, потом снова мы сделали контрнаступление до Северодонецка, и вот в таком режиме 10 лет. Страна должна как-то существовать, люди должны ходить на работу, дети – в школу, учиться, экономика должна работать.
Это наша новая реальность, в которой мы живем. Ракетные удары были и будут, и могут быть, как в Израиле, всегда. Это такой новый мир для Украины, и мы должны адаптироваться к нему и адаптировать его под нас. Это задача государства.
– Как тебе информационная политика государства в отношении войны? Приходилось неоднократно слышать даже от представителей самой власти, что эти реляции о наших бесконечных победах, уничтожении врага, истощении вражеских ресурсов и так далее – все это сыграло свою правильную роль в первые дни или недели войны, но потом немножко в это заигрались и это начало уж слишком контрастировать с реальностью, которую мы видим. И периодически те же самые люди у власти начали немножко в другую сторону бросаться, говорить, что на Донбассе у нас ситуация "аховая". Как ты это все оцениваешь?
– По-разному. Я не сторонник того, чтобы мы оглашали наши потери, и считаю, что мы не должны этого делать. При этом я считаю, что государство не должно лгать. Государство может что-то не говорить, что-то не озвучивать или что-то озвучивать общее, но оно не должно сознательно лгать своим гражданам, тем более военным.
Я не считаю, что сейчас все должны говорить обо всем, а у нас иногда даже на уровне власти есть спикеры на разные целевые аудитории, которые, выходя из одного кабинета, говорят совершенно противоположные вещи. И это, по-моему мнению, не очень ОК, хоть тоже в этом есть свой смысл. Как мне кажется, о чем мы вообще не говорим – это работа с временно оккупированными территориями, это работа по деморализации российских солдат.
– А что мы можем в этом смысле делать?
– Есть ИПСО, например, которые много лет получали какие-то средства на это, которые должны были бы иметь такой инструментарий, которые должны бы иметь возможности реализовывать такие операции. Кое-где были попытки, и кое-где даже успешные, но это все еще на низовой инициативе отдельных военнослужащих, отдельных специалистов или гражданских специалистов, чем какая-то системная государственная работа.
– То есть системной информационной войны против России мы не ведем?
– На ее территории? Пока нет. И также мы должны вести такую же войну в Европе и на Западе против России, потому что Россия ее ведет.

– Перейдем к конкретным событиям на фронтах. Начнем с того, что уже произошло. Первый вопрос – это Юг и Херсон. Как так случилось, что россияне сравнительно легко и быстро захватили город и регион? И насколько история под кодовым названием "Кто разминировал Чонгар?" имеет под собой основу?
– Я никогда не интересовался, почему он не заминирован, поэтому здесь короткий ответ на второй вопрос. Я не знаю, был ли он заминирован и кто его разминировал, если был. И имеет ли это вообще какой-то смысл.
По информационной накачке, однозначно сейчас происходят и определенные политизированные процессы вокруг Вооруженных сил, которым активно способствует Россия для того, чтобы уменьшать доверие общества к армии, и вносить больше разлада внутри самой армии.
– Мы могли удержать Херсон и регион вокруг него?
– Очень легко так сидеть нам и говорить, кому и как надо было удерживать. Если бы мы восемь лет готовились к войне, то она бы не случилась. Мы восемь лет делали что-то, то есть мы шли в НАТО, мы проводили АТО, потом операцию Объединенных сил, мы проводили парады, которыми все гордимся, мы покупали 10 бронетранспортеров в год и вкладывали деньги в корветы, которые будут где-то через надцать лет или не будут.
Мы что-то делали, но мы не готовились к войне с конкретным противником в конкретных условиях. Это требует определенного количества сил, средств, техники, резервов различных: человеческих, вооружения, боеприпасов. И, очевидно, что где-то на войне ты проигрываешь, ты не можешь всегда выигрывать. Это пример того, что нам не хватило где-то планирования, где-то ресурса, где-то резерва. И те силы, которые там были, они просто были раздавлены в 10-20 раз большим количеством противника. Там, собственно, стоял мой батальон, в котором я служил, 137-й, и он понес огромные потери как для того периода.
59-я бригада оказала довольно серьезное сопротивление, но одна бригада не может остановить армию, которая идет по фронту, без прикрытия всем, от артиллерии и РЗСО до авиации и ракет. Мы оказывали сопротивление, это не значит, что он был сдан. Другое дело, что могут сделать 10 или 500 военных против 10 000 или 50 000.
– Похожий вопрос по Мариуполю. Был ли у нас шанс как-то избежать той ситуации, которая случилась? И реальны ли были шансы деблокировать его в какой-то момент основными силами или совершить тот самый прорыв?
– Во-первых, в наших медиа очень часто журналисты не вникают в то, что было много попыток прорывов и деблокады, и все они были неудачны, и в них гибли люди, и иногда очень немалое количество, и в них терялась техника. И то, что об этом все не говорят, то это не значит, что этого не было. И вертолеты летали в то время, когда все кричали "сделайте что-то".
Просто каждое "солнышко” в Украине считает, что лично к нему должен прийти какой-то высокий чиновник и каждый день вечером докладывать, сначала, как идет война, потом – что мы покупаем и получаем, потом – что у нас украли, и так по каждой из отраслей. И так каждый день каждому гражданину Украины. Так не бывает нигде и никогда, и о некоторых вещах мы узнаем значительно позже.

– Вот, о вертолетах мы узнали уже публично.
– Да, это пример. Были попытки, они работали, мы этими вертолетами передавали помощь, и она тоже работала, и мы получали оттуда фидбек по ней.
В то же время представим себе ситуацию, что в какой-то момент времени мы бы не удержали Мариуполь, и это привело к тому, что россияне не сосредотачивали на его захвате довольно значительное количество сил и направили, например, их на Харьков, который был очень шаткий. И мы бы потеряли Харьков и Мариуполь.
В тот короткий промежуток времени техника и вооружение, которые мы получили от Запада, только начинала готовиться к передаче или поступала на уровне стрелкового оружия, "Джавелинов" и ПЗРК, то есть не того, что стратегически влияет на войну.
Мы могли взять половину армии, снять с нескольких направлений и бросить на деблокаду Мариуполя. Мы бы положили сначала эту половину армии, а потом добили бы Мариуполь, а потом россияне развернулись бы и спокойно пошли на Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Сумы, Киев и дальше во Львов. К сожалению, так бывает, что где-то надо выигрывать время, и иногда это время, которое выигрывается жертвенностью народа.
– Относительно текущих событий на фронтах, в частности на Востоке. Северодонецк – как ты видишь шансы удержать город и есть ли смысл там держаться любой ценой? Потому что от власти идут абсолютно противоречивые месседжи на этот счет. Или о том, что в Северодонецке "решается судьба Донбасса", это сказал президент Зеленский. Тогда как секретарь СНБО Данилов говорит, что временная потеря территорий – это не трагедия, и это нормально.
– Я здесь согласен с Даниловым, временная потеря территории в условиях полномасштабной войны – это нормально. Поляки в 1939-ом пытались держать линию фронта и как раз потеряли все, если бы сосредотачивались на отдельных направлениях главного удара, могли бы значительно дольше держать оборону и, возможно, за счет этого выиграть время, которое позволило бы вмешаться западным странам.
Поэтому потеря территорий даже с исторической точки зрения, с точки зрения военной стратегии – это допустимо. И это то, что мы делали, например, в феврале и марте на Севере. Мы сознательно отступали, затягивая противника в глубину для того, чтобы его истощить, а затем перейти в контрнаступление. И нам это удалось, Север очищен так или иначе.
Насколько критичен Северодонецк? Просто так сдавать его, наверное, не стоит. Надо ли ради него класть все Вооруженные силы? Наверное, тоже не очень умно. Но давайте понимать, что на единицу наших потерь – три-пять потерь врага.
– Где-то так: один к трем, к пяти?
– Да, для наступления надо где-то трех- или пятикратное преимущество. И чем более кратное преимущество, тем меньше потерь и более эффективное наступление. И это тоже ощутимо для врага, вряд ли Россия хочет положить свои вооруженные силы за Северодонецк или за всю Луганскую область.
– Насколько в целом россияне сделали выводы из первых дней и недель войны?
– Они довольно быстро учатся, делают выводы, у них много системных проблем в армии, которые не позволяют им эти выводы быстро исправить. Но не стоит их недооценивать и не стоит думать, что Россия – это какое-то слабое государство.

– Это была популярная, особенно в начале, история, когда наши ловили пленных, которые выглядели просто как бомжи и где-то так же умели воевать. Мы над ними очень сильно смеялись. То есть, не вся российская армия воюет и выглядит как бомжи?
– Конечно, да. И не все Вооруженные силы – как элита НАТО, давайте тоже отдавать этому должное. К сожалению, потому что воюет огромное количество людей мобилизованных, без опыта, без навыков, без обеспечения на том уровне, на котором оно должно было бы быть.
Это как 2014 год, мы же помним, это все было, мы проходим циклическую историю 2014-2015 года, только сейчас на скорости х3-х4.
– Мы видим, что агрессоры очень медленно, с большими потерями и проблемами, но все-таки ползут вперед, где-то им, к сожалению, это удается. Насколько далеко они могут продвинуться?
– Это зависит от того, что непосредственно будет происходить на поле боя. Здесь невозможно спрогнозировать, как отдельный условный пехотинец, танк, отделение, взвод, рота и батальон себя проявят, от этого будет зависеть, как будет развиваться ситуация.
Пока что они понемножку, но продвигаются. Насколько далеко смогут продвинуться, зависит от того, насколько они смогут эффективно мобилизовать свои человеческие ресурсы, технику, вооружение и боеприпасы, с одной стороны. С другой стороны, насколько мы это сможем эффективно делать. И с третьей стороны, от того, как мы будем получать помощь, а они нет.
– Конечно, мы не можем узнать планы россиян, заглянуть в голову Путину, но все-таки какие-то есть варианты, какими могут быть дальнейшие планы врага? Мы видели первую фазу – они лезли повсюду, потом сконцентрировались на одном направлении, на Востоке. Что дальше? Они и дальше будут по Донбассу идти? Можно ли ждать из Беларуси атаки, или с юга они полезут?
– С юга идут определенные наступательные действия с обоих сторон, хотя бы их попытки, как с нашей, так и с российской, если мы говорим о Херсонщине и Николаевщине. Если мы говорим о севере, то опасность, по моему мнению, не исчезла, но она зависит от того, как будет развиваться ситуация, в первую очередь, на востоке, потом на юге.
Вряд ли Россия попытается со всех сторон снова пойти в наступление, потому что они это попробовали, у них не очень получилось. Оказывается, и мало подготовленные или без опыта, люди из ТРО, но с огромной мотивацией и немного с современным западным вооружением могут делать нормальную войну регулярным вооруженным силам. Поэтому это требует более взвешенного подхода.
С другой стороны, если мы смотрим на переформатирование конфликта в долгоиграющую историю, то здесь, к сожалению, мы закончимся быстрее, чем Россия.
– То есть мы не готовы к войне на истощение с ними?
– В этой войне мы зависимы от Запада от слова "полностью". Если Запад нам будет гарантированно давать достаточное количество техники и вооружений, не автоматов и пистолетов, не помповых ружей, которые мы получали, а нормальное вооружение, тогда мы можем воевать долго.
Если мы получаем 0,3 условных единицы, а теряем 0,5 условных единиц, а Россия теряет 0,5 и получает 0,5, то мы просто со временем быстрее закончимся. И вот сейчас пока все идет к тому, что мы заканчиваемся быстрее, потому что Запад много говорит и относительно мало что делает.

– То есть темпами поставок ты, как и в принципе все, не доволен?
– Грех жаловаться, с одной стороны, могло не быть ничего. Но с другой – очень много разговоров и кое-где очень мало действий. И это как раз о том, что нам надо выигрывать время. Мариуполь – это было о том, чтобы где-то на Западе провели какие-то скучные переговоры чиновники западных стран и согласились предоставить нам нормальную артиллерию. Благодаря этой нормальной артиллерии сейчас держится Восток.
Сейчас мы получим HIMARS и, возможно, М-270 с дальностью стрельбы 85 километров. Да, четыре машины, сколько-то ракет, но это уже какие-то возможности. И если мы покажем, что способны осваивать это оружие, мы можем претендовать на большее, а это перевод конфликта в другую сторону. Потому что мы сможем эффективно поражать уже не на 30 километрах артиллерией, а на 85.
– Нам сейчас больше всего надо дальнобойная артиллерия, как все говорят? Вообще все сводится к тому, что дайте нам артиллерию, и у нас все будет хорошо, мы все сделаем.
– Не только об этом. Первое – это реактивные системы залпового огня MLRS с дальностью до 300 километров, то, что мы просим. Даже 85 км нам хорошо, 120-130-150, все, что дальше 70 километров – дальности работы "Смерча" – нам ОК, если это еще и новые боеприпасы и их будет безлимит.
Второе – это бронетехника, нормальные БМП "Брэдли", бронетранспортеры "Страйкеры", М-113 или аналоги в больших количествах, это боевые бронированные машины "Хамви", "Мастифы", "Мрапы", "Бушмастеры" ...
– Фактически, это все идет, но очень мелкими партиями.
– Условно говоря, БМП тысячу надо, БТРов надо тысячу или 2-3 тысячи в зависимости от того, о каких говорим, если М-113, то значительно больше, если "Страйкеры", то очевидно, их дадут меньше. Если мы говорим об автомобильной технике – это 30-40 тысяч единиц. Это нам надо условно заменить все что есть, все ЗИЛы-130, "Уралы", Камазы, которым по 30 лет, куча шасси специальных, от авиации до перевозимых радиостанций – это все надо менять. И это огромные объемы.
Потом ПВО, беспилотники, РЭБ, РЛС контрбатарейные, воздушной установки, потом все остальное.
– По ПВО и в целом российских ракетных атаках. Они еще долго смогут терроризировать, в частности, очень далекие от линии фронта города периодическими атаками? У них еще достаточный запас для этого, месяцами это может продолжаться?
– Десятилетия, например.
– Десятилетия?
– А почему бы и нет?
– Говорят, что вот они уже выстреляли столько и столько.
– Смотрите, у нас была и есть одна ракетная бригада, у которой было какое-то небольшое количество "Точек-У" с каким-то небольшим количеством ракет. Мы 30 лет их там где-то продавали, списывали, потом 2014-2015 годы активно работали, сейчас с 24 февраля очень активно работали. "Точки" – одни из тех, кто стратегически вытащил эту войну, и они у нас до сих пор есть, мы еще можем ими работать где-то на уровне в 50% от того, что было. Там хуже качество, потому что много нюансов, но они есть.
А теперь представьте россиян, у которых 13 ракетных бригад, то есть умножьте это все на 13, у которых есть доступ до завода, который изготовлял эти "Точки", у которых есть доступ к комплексам, которые пришли на замену этим "Точкам", в первую очередь "Искандеры", есть доступ и плюс-минус закрытый комплекс собственного ВПК. Если еще туда добавить, например, КНДР, Иран и еще какие-то подобные не очень прогрессивные страны, но которые могут помогать теми или иными составляющими, Россия может долго существовать и выпускать не самое лучшее в мире оружие. Но оно будет, а у нас его не будет. Его будет много, оно будет простым, дешевым и работающим.
– Возвращаясь к западному оружию – по состоянию на сейчас, как бы ты оценил вклад его поставок в целом в ситуацию на фронтах?
– Оно позволяет нам держать этот самый фронт. Без западной арты, противотанковых средств, ПЗРК и остального мы бы посыпались давно. Если бы условно мы с 24 февраля ничего бы не получили, я думаю, война уже была бы для нас в таком формате завершена.
– Проигранна?
– К сожалению.

– А при каких условиях и когда Украина сможет перейти в контрнаступление? И видишь ли ты опцию освобождения всей территории Украины, включая ОРДЛО и Крым военным путем?
– Для меня ОРДЛО и Крым не являются какими-то отдельными частями. В мире все теоретически возможно. Теоретически возможно все, практически первый шаг – это остановить противника, второй шаг – это перейти в контрнаступление. Для того, чтобы остановить противника, надо время на то, чтобы получить технику, вооружение, людей обучить, овладеть всем этим. Пик поступлений будет, как мне кажется, июнь-июль, но пока что-то июнь подводит.
С другой стороны, для контрнаступления нам надо не просто какое-то количество, нам надо преимущество над противником.
– И до этого еще далеко?
– И до этого еще очень далеко. Причем как количественного преимущества, так и качественного. Мы все посмеялись с российских танков Т-62М, но их много, они есть, они просты, эффективны и они будут работать. И ОК, он горит от "Джавелина", так и Т-72 горит, и Т-90 горит, и "Абрамс" горит. На войне это техника и побеждает тот, у кого ее больше, лучше подготовленные люди и более мотивирован личный состав и командиры.
– Я так понимаю, ты пессимистично относишься к прогнозам, что уже во второй половине лета будет контрнаступление и фактически за три-четыре месяца мы достигнем очень серьезного успеха.
– Где-то под Москвой...
– Ну, не под Москвой, но хотя бы под Луганском.
– Уже были у нас такие специалисты в Украине, которые рассказывали, что враг через две-три недели – и все. Уже два-три месяца и как-то не очень. И чем ближе к линии соприкосновения, тем это "не очень" усиливается, скажем так. Хотя стратегически и глобально я пока не вижу, что мы проиграли или проиграем. Мне кажется, Украина держится очень достойно, и в будущем мы однозначно выиграем. Просто вопрос этого промежутка будущего.
– Это могут быть годы?
– Это может быть и 10 лет.
– Сейчас идет четвертый месяц войны. Вам как фонду работается легче или тяжелее, чем в начале, и как изменилась волонтерская деятельность за это время?
– Однозначно, стало легче, из-за того, что появилось больше времени и возможностей систематизировать процессы работы в новой реальности. С другой стороны, исчезла тотальная потребность во всем, для всех и на вчера. И формат работы перешел на более среднесрочную перспективу планирования, закупок, проектов, логистики, оно стало на более системные рельсы в новой реальности. Новая реальность – это новые масштабы, новые объемы, которые полностью несоизмеримы со всем, что делал фонд предыдущие восемь лет.
То есть мы за два дня собираем больше, чем за весь прошлый год. Мы за неделю собираем больше, чем за последние восемь лет плюс-минус. И, соответственно, закупки идут уже не точечные, а большие, проектные, системные, в том числе товаров военного назначения, двойного назначения.
– А как насчет пожертвований? Как-то уже ощущается или снижение задора людей, или банальное истощение финансовых ресурсов?
– Как у всех, это естественный ожидаемый процесс, он начался где-то в конце марта. Сейчас мы держимся на каком-то определенном плато, за счет диверсификации подходов к фандрейзингу. С другой стороны, у нас было принято несколько стратегически верных решений в начале, что дало нам определенные репутационные плюсы сейчас.

– Что имеется в виду?
– То, что мы не работаем в формате открытого офиса, то, что мы занимаемся не всем, а занимаемся только определенными семью позициями. И то, что мы сами определяем приоритеты выдачи помощи.
Мы сами приходим к военным, сами с ними связываемся, или через соответствующую форму можно подать заявку и она будет рассмотрена, или ее плюсонут, или ее минуснут. Это позволило не встревать в крупные репутационные скандалы и поддерживать финансирование на каком-то стабильном уровне. Конечно, этот уровень не позволяет, условно говоря, покупать танки или самолеты, но он позволяет в достаточно больших масштабах обеспечивать тем, чем мы обеспечиваем: в контексте связи, снайпинга, аэроразведки, мобильности войск, органов военного управления, командных пунктов, пунктов управления разведки, такие системные большие проекты.
– Среди пожертвований доминируют мелкие суммы в 100-200-500 гривен, или как правило, если уже приходит, то что-то со многими нулями?
– По-разному. У нас нет какого-то одного спонсора, мы не получали огромных средств от олигархов. Самый большой одноразовый донейт – 4 миллиона долларов в криптовалюте от криптосреды DOU. От разных бизнесов может быть и миллион гривен, и десять, и больше, и меньше.
С одной стороны, как для волонтеров, это очень много, с другой – очень мало с нашими масштабами работы. На этой неделе мы купили десять беспилотников, это почти 10 миллионов долларов. Чтобы реализовывать такие масштабные проекты, надо собирать в течение какого-то времени. Но при этом не исчезают текущие потребности в квадрокоптерах, радиостанциях, тепловизорах, средствах защиты, машинах, которые в условиях такой войны фактически является расходным материалом.
– Чего сейчас не хватает армии больше всего и как это структурно изменилось с конца февраля-начала марта, с точки зрения волонтерства?
– Сейчас к нам чаще всего поступают запросы относительно машин, пикапов, микроавтобусов, второе – это беспилотники на 30-50 километров и сопутствующие вещи: планшеты, флешки, ноутбуки, плазмы, жесткие диски и тому подобное. Оружейники на коптеры, запасные аккумуляторные батареи, зарядки, старлинки. Потом связь: моторолы, Hytera, голосовые шлюзы, телефоны, радиорелейки, мачты, кабеля, переходники и прочее – все, что предназначено для управления и коммуникации армии. Тепловизоры и ночники, последние сейчас труднее купить. Потом уже остальные в разных пропорциях: металлоискатели или миноискатели, броня, шлемы, аптечки, которые непрофильные для нас сейчас, генераторы и т.д.
Сегодня вернулся с юга, несколько командиров разного уровня озвучили запрос на саперные лопатки. В армии закончились саперные лопатки. Круто. Повоюем.
– У тебя часто в комментариях на Фейсбуке пишут: вот пошел воевать брат-кум-сосед, даже ему семьей или подъездом собрали деньги, но он голый-босой, ничего нет, ему надо прицел, броник и тому подобное. Ты отвечаешь: мы не занимаемся точечным оснащением одного бойца в конкретном месте. Но что можешь посоветовать людям, у которых кто-то ушел на войну и у этого бойца ничего нет? К кому бежать?
– Во-первых, "у него ничего нет" – это не очень корректно. У него как минимум есть оружие, боеприпасы, командир, который ему ставит боевую задачу. Предположительно, у него какое-то подразделение, у которого есть какое-то коллективное оружие, какая-то структура, вертикаль управления. "Ничего" – это уже неправильно.
Если мы говорим в контексте обеспечения, то какой-то критической ситуации по бронежилетах-шлемах сейчас нет. Их покупает государство, их передают волонтеры, их мы получаем в качестве международной помощи. Другое дело, что бронежилеты на самом деле мало кто умеет носить и понимать его функции и предназначение, какими бы они ни казались очевидными.
Во-вторых, если это какой-то волонтерский бронежилет, то очень высока вероятность, что он не очень подходит под реалии нашей войны.
– Говорят, лучше никакого бронежилета, чем псевдобронежилет.
– Сто процентов. Потому что это будет что-то тяжелое и неудобное, вы будете менее мобильны, и он все равно не спасет вас в случае прилета. Но если мы говорим о правильном нормальном военном бронежилете с нормальным кевларовым пакетом, с нормальными плитами, которые правильно подогнаны под конкретного военнослужащего, который не снимает с него защиту плеч и паха – то он должен быть, как и шлем.

Что делать? Можно купить то, что армия точно не даст хорошее, это точно не будет лишним: хорошая обувь, рюкзак, баул. Всякие эти коллиматоры, ручки на автоматы – нужны только тем, кто знает, что с этим всем делать. Для других надо более приземленные вещи, которые дают больше пользы. Один хороший бинокль на подразделение – это лучше, чем один дорогой коллиматор на автомате. Один хороший ноутбук на подразделение – лучше, чем один комплект формы.
Я сторонник коллективных подходов, когда вы даете не конкретному бойцу, а даете что-то, в том же денежном эквиваленте, но этим пользуются десять бойцов. Планшет – с ним могут работать многие люди, он работает в интересах подразделения, он увеличивает его боевой потенциал. Бинокль – тоже, тепловизор, радиостанция – тоже. Скупать все, что есть в магазине, начиная от ножей – не стоит.
– Роль и авторитет армии, военных и отдельных военных руководителей очень сильно выросли в Украине. Ты видишь предпосылки, при которых может сформироваться какая-то отдельная партия военных, потому что о ней ходят слухи в политических кулуарах. Есть абсолютно противоречивые версии о том, кто это делает, с кем делает и против кого.
– Я там есть?
– Приходилось слышать разное, в том числе и да.
– Интересно. Можешь этим людям не очень доверять в будущем, потому что я пока не планирую. Но так получается, что в обществе армия пользуется огромным уровнем доверия. И в отличие от многих политиков, чиновников и лидеров чего-то там, эти люди ежедневным тяжелым трудом и результатом подтверждают себя в этой стране.
И я допускаю, что у отдельных военных могут появиться политические амбиции. Но если мы говорим, например, о Залужном, то я не верю. Я никогда не слышал от него о таких амбициях, и от большинства адекватных военных, которых я знаю, тотального большинства, я тоже не слышал желания.
Отдельные, конечно, есть, и мы видели их с 2014 года на выборах.
– Имеется в виду не партия, в которой есть военные, а партия именно военных с соответствующим позиционированием.
– Ну, у нас была партия афганцев, были много разных подобных партий, даже после 2014 года. Я понимаю суть твоего вопроса и если отвечать на эту суть – я думаю, что нет. Но однозначно все политические силы попытаются использовать максимально и волонтерское движение, и военных, и ветеранов.
– Поступали уже тебе предложения от кого-то?
– Да.
– Чтобы как-то втянуть фонд в политическую деятельность?
– Не фонд, меня. Я это я, а фонд это фонд, я директор, который сегодня есть, а завтра меня нет. Это первый важный момент. Второй момент – у меня есть еще Украинский милитарный портал, который никуда не исчезает и которым я продолжаю в той или иной степени заниматься.
Фонд равноудален от всех политических сил и принципиально аполитичен в своей сущности. Те люди, которые являются фондом, у них нет политических амбиций. Они хотят влиять на реформирование и развитие Вооруженных сил, потому что они с ними работают каждый день. Они хотят, чтобы наша армия и государство не делали ошибок, как в предыдущие восемь лет, но при этом я знаю, что по состоянию на сегодня нет желания у кого-либо из работников фонда строить политическую карьеру и тем более как-то пытаться втянуть фонд.
В разные годы были такие попытки, и мне кажется, что пока мы достаточно качественно держимся и держались от всех на расстоянии двух метров, не ближе. При этом мы нормально коммуницируем с разными политическими партиями, конечно, кроме коллаборационных. И это ОК как по мне, координация какой-то волонтерской работы и каких-то вопросов на уровне Кабмина, Верховной Рады, внешней работы с партнерами.
То есть мы в какой-то степени политический игрок, но у нас нет желания становиться частью чьей-то фракции, партии или приложением к чему-то.