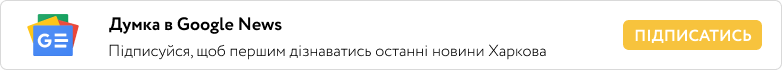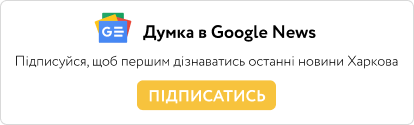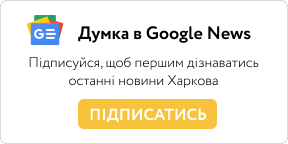Специалист литмузея Ольга Бондарь-Ризниченко: Для защиты музея в Харькове мы писали даже Клинтону

С момента своего основания литмузей был институтом сопротивления и сохранения украинской культуры. В 1990-х годах его команда отстаивала право города на украинскую культуру, боролась с советскими и постсоветскими ограничениями и формировала среду, которая не боялась конфронтации с властью. Сегодня же музей работает с новыми вызовами: войной, цифровизацией, а также поиском новых способов привлечь внимание харьковцев к литературе и сохранению своего культурного наследия.
В интервью изданию "Мысль" ведущая специалист Харьковского литературного музея Ольга Бондарь-Ризниченко рассказала об истории музея, его конфликтах с властью разных эпох украинской истории, изменениях восприятия украинской литературы, о том, почему Харьков имеет потенциал стать городом культурного единения, как культурное наследие может стать главным инструментом формирования ценностей. то, почему на самом деле украинскую литературу нельзя считать "печальной", мнение о чем часто бытует в обществе.
Вы были одним из тех, кто стоял у истоков Харьковского литмузея?
- Да, я "последняя из могикан" в музее. Если говорить о всем периоде, мы были основаны в 1988 году, музей прошел драматическую, каркаломную историю. С самого начала мы придерживались такой позиции, что когда тебе сверху что-то не позволяют, а тогда в 90-х годах, еще даже до установления и принятия Акта о независимости, ясно, что существовали партийные органы, обком партии. Поэтому, когда мы предлагали тему, но нам кто-то запрещал, мы брали билет и ехали, например, во Львов и собирали деньги на Площади рынок для того, чтобы в Харькове состоялась первая в Украине выставка "Украинская голгота" – это выставка, которая открывала для нашего общества 20-е годы прошлого века. Тогда почти вся Украина, диаспора и целые коллективы, например, еще существовавшие заводы, люди ежедневно шли в музей, и мы их проводили по этим страницам расцвета украинской культуры и драмы, трагедии, которой это все завершилось в 30-х годах прошлого века.
Мы почти постоянно находились в конфронтации к власти, поскольку с самого начала взяли стратегию на популяризацию и исследования, связанные с украинской культурой и литературой, слободской и общеукраинским контекстом, вне всяких упоминаний о русской культуре, которой в нашей истории, к счастью, не было. То есть все это время литмузей был культурной средой, где сплачивались постепенно от крошечной шопты тогда в начале 90-х годов, до сегодняшнего дня, когда литмузей является топ-локацией. Я бы не сказала, что литературой и Харькова, и современной украинской литературой не интересуются люди, потому что когда мы проводим "Ночи в музее", там такие очереди, чтобы попасть к нам, которые достигают пересечения улицы Сковороды и нашего переулка Багалия, где мы находимся.
Как литмузею удалось пережить столько разных эпох: советскую власть, революции в Украине?
– Нас постоянно, кстати, "продавали". Наше помещение находится в центре. Когда мы впервые туда зашли, это была партийная гостиница. Там в свое время даже Брежнев был, из Москвы даже какие-нибудь бонзы эти партийные приезжали. Поэтому, когда мы впервые зашли в помещение, там были роскошные комнаты с каминами, с кухней, столовой, где они проводили разные пиры. Даже время мы работали параллельно с КГБ: когда идешь в музей, там была небольшая комната, где находилась прослушивающая аппаратура для Киевского района.
Мы прожили и этот период, и когда наша мафиозная номенклатура продавала многие здания. Музей устоял из-за того, что мы не боялись защищаться. Во-первых, мы были очень дружественны. Нашу среду всегда хотели разными технологиями расколоть, но директор, я как человек, продуцировавший какие-то идеи, Анатолий Антонович Перерва, один из тогдашних классиков, Сергей Жадан, который также был младшим научным сотрудником нашего музея, его друзья из "Красной фиры", не боялись дружно противостоять. о том, что единственный островок украинской культуры в Харькове может быть закрыт.
Такое действительно было?
– Да. И Клинтон написал нам. Кучма офигов, нас вызывали, говорили, что здесь между нами может быть что угодно, но как можно мусор из своего дома выбрасывать так, чтобы весь мир знал, что у нас какие-то противоречия?
Мы подключали общественные организации, писали на мероприятие, писали статьи по всему миру, что нас хотят прекратить, чтобы усохла здесь украинская культура, альтернативная официальной линии. Музей сразу возникает с идеей изменить вещание, визуальную составляющую украинства на то представление, что это исключительно культура вареников и вышиванок.
Называли нас тогда "осознать", "вышивать", по-всякому. Были ужасные унижения. А сотрудники Литмузея были очень активны и в общественном смысле также: в пять-шесть заканчивалась работа, мы шли на площадь и требовали легализации украинской символики. Это было в начале 90-х. Нас очень поддерживала диаспора, возле нас сплачивались молодежные силы, которые поставили перед собой цель, чтобы украинская культура воспринималась как самодостаточная, а не как некая "мужицкая речь", "мужицкая культура", которой русские представляли нашу культуру и требовали, чтобы мы ее стеснялись.

Теперь наша задача состоит в том, чтобы мир увидел нас не просто как самодостаточную, а как потенциально сильнейшую в Европе модно изучать культуру, а украинский язык – это язык, на котором модно, престижно разговаривать. Кроме того, что для нас эта культура на сегодня – это предохранитель и идентичность против русской, которую я слышу уже в городе, и мне становится некомфортно, это слово, которое является границей между культурой разрушения и экспансии, какова русская культура. Украинский сегодня нуждается в том, чтобы мы со всех внешних позиций защищали его. Конечно классно прочесть что-то из Ремарка, Хемингуэя, Джойса, Пруста, как было 10 лет назад. Тогда же были какие-то ключевые для нас тексты Пелевина-Сорокина, которые мы должны прочитать для того, чтобы быть в тренде этих событий.
Сегодня мы находимся на пересечении, когда мы переходим к тренду, который мы должны читать свое – от раннемодерной литературы до современной для того, чтобы быть наиболее желанными собеседниками со своим обществом и мероприятием. В этом направлении музей работает с самого начала существования то по сей день.
Есть такое мнение, что украинская литература трагична, поэтому читать ее сложно. Что вы скажете на это?
- Думаю, что эту идею так же, как другие штампы, просто "закрутили" в наше сознание. Сегодня я считаю для себя самыми крутыми сотрудничателями тех, которые прочитали украинскую классику, потому что она на самом деле не о каких-то драматических моментах, и о том, как мы в постоянных войнах, теряли близких, что часто воспето в исторических думах и песнях. Но как может это мнение о печали в украинской литературе, сосуществовать с тем, что мы народ, наиболее открытый к иронии, к юмору, когда самые драматические события сразу трансформируются в мемы, например.
Ну, возьмите сейчас этот наш Фейсбук: Анжелина Джоли приехала в Херсон, и мы видим такие мемы, где просто плачешь смехом. Это было всегда. В 19 веке на этих театральных спектаклях, еще Трупа Старицкого, Кропивницкого показывали - ну откуда водевили? Вы что, плачете, когда "Энеиду" Котляревского читаете? Или мы сейчас вот на фронте с этими котиками, разными интермедиями, которые придумывают военные и говорят о том, что без юмора просто невозможно выжить. На самом деле люди, умеющие иронизировать над собой, это люди, уже осуществившиеся как личности. Наша литература не печальна, а все, что нам по советской схеме подавалось: с 19-го, 20-го века мы должны переосмыслить.
Другое дело, что смысл украинской литературы был также в том, чтобы заботиться о наших людях. Вот возьмите русскую литературу – что Пушкина, Толстого, Достоевского их люди читали? Нет, это была литература на экспорт. Людей, которые преимущественно говорили на французском. А наша культура, где интеллигенция и наша интеллектуальная элита на пересечении 18-19 века, когда начались все эти языковые, культурные ограничения и создание стереотипов "о нас для нас", уже обратились к людям: они учились у народа, поскольку это была языковая стихия. Такая стихия, в которую невозможно было не влюбиться, потому что столько песен, сколько имеет наш народ - я не знаю вообще в Европе, имел бы еще какой-то народ такие песни, в которых на все случаи жизни были какие-то рефлексии, потому что мы народ, кроме того, что самоироничен, и еще такой, который люит рефлексировать на философские темы. такое космос. Это все есть в наших исторических песнях.
Я думаю, что сейчас благодаря стилизациям народных песен мы зайдем с этим репертуаром на мировую арену и будем в топе. Главное, что наши поэты и музыканты сегодня тесно коллаборируют между собой. Если уж говорить о том, чем можно заинтересовать нашего читателя, наш читатель сегодня узнает об источнике, о тексте непосредственно через самые интересные аттракции, которые только могут быть: с музыкантами, с театром, живописью.
Буквально на днях ЛитМузей проводил мероприятие с MediaPort к 130-летию Майка Йогансена, где его детская книга о Жуке Водолюбе и Таракане была представлена рядом с разнообразными иллюстрациями, которые художники, молодые студенты рисовали, с различными музыкальными интерпретациями этого текста. Иогансена. Подобные аттракции для музея характерны еще с 90-х годов. Мы понимаем, что сегодня, когда Интернет и YouTube монополизировали это пространство, нужны самые каркаломные коллаборации для того, чтобы снова вернуть людей к источнику. Вот как передать людям то, что руководят миром читающие над теми, кто просто геймерами в своей жизни? Мне кажется, что наша стратегия и наше будущее в том, чтобы все возможные формы художественного текста становились доступными для людей, в результате чего ты возвращаешься к первоисточнику - написанному художественному тексту, его машинописи или рукописи, к книге.
.jpg)
Сегодня можете в Ермиловцентр прийти, как раз будет такая дискуссия о культуре добродетели. Это к тому, что ЛитМузей принимает участие не только в развитии культуры инструментами эстетики, но и выходит на очень важные для нашего выживания проблемы, например, коррупции. Мы сейчас должны думать: вот кончается война. Как после Оранжевой революции и революции 2014 года опять же россияне найдут тех, кого можно за что-нибудь задеть, просто деньги тебе предложат. Как сегодня создать у людей аллергию к тому, чтобы брать за это деньги было неприлично вообще? Неприлично брать у кого деньги или давать кому деньги.
Мы сколько ни сдвигали этих этических вопросов – не получалось. Вот сейчас Софийка Чиляк – менеджер BookForum, перечитала текст "97" Николая Кулиша о голоде 1921-1922 годов. Она обратила внимание на то, что там как раз есть два случая с коррупцией. Предотвратив их можно было спасти 95 человек, а в другой раз из-за этих злоупотреблений погибли 97 человек. Мы будем говорить сегодня в Ермилов-Центре о пьесе Николая Кулиша, которая написана в то время, и как она может побуждать нас к размышлению, насколько для нас в любое время коррупция влияет деструктивно, как она нас разрушает изнутри, закрывает нам путь в будущее.
Мы идем к обществу сейчас через литературу с проблемами, как нам организовать общество так, чтобы оно отказалось от своих очень отрицательных привычек, которые сформировались с нами во время нашего пребывания в империи. Со второй половины 18 века произошло переформатирование органического для нас социального поля, когда нам предлагали новые социальные группы, другую инфраструктуру, к которой мы не привыкли. Вот тогда этот верхний слой казацкой старшины подпадал под всю коррупцию. Кстати, об этом можно также прочитать у Квитки-Основьяненко – основателя нашей прозы, который был главой совестливого суда или главой уголовного суда перед тем, как он ушел в засвет. Это 1841–1842 годы.
Для Харькова эти писатели – Квитка-Основьяненко, Яков Щеголов, Игнат Хоткевич просто патронами нашего города. Мы все должны о них знать. Мы все должны знать о Сковороде. И не случайно мы сделали проект "SKOVORODANCE", и на стадионах уже "Всякому городу обычай и права" поют сотни молодых людей. Мы должны знать о своем Сковороде, потому что он беспокоился не только о своем поколении. Он не только воспитал молодых людей, которые в начале 19 века создают университет и группу людей, которая заботится об украинской культуре. Сковорода, заботится и о нас с вами, потому что те философские наставления, которые он нам дал: самопознание, врожденный труд каждого, когда ты должен понять, почему ты будешь счастлив, когда ты будешь заниматься делом, это спасительное воспитание, когда наш мир, наша община должны пребывать в открытости, в любви. То есть мы должны себя воспринимать как нашу харьковскую общину, которая не просто живет сейчас во время войны, а которая открывает в себе, как в колодце, глубины собственной культуры, через что открывает свою идентичность.
Какую роль культура может сыграть для экономического развития?
- Сейчас те выставки, которые мы сделали в начале вторжения – "Антитекст", например, о самиздате, сейчас уже полгода путешествует по Европе. Эта экспозиция, которую Константин Зоркин создал с Литмузеем, рассказывает о коннекте между всем миром - связях, которые должны быть прочными для сопротивления внешней агрессии, которая хочет нас всех разъединить, расконектить между собой. Эта выставка представляет нас как мощь. Она сейчас тоже путешествует – недавно была презентация на фестивале в Кельне.
Как европейцы реагируют на подобные выставки?
– Европейцы сейчас открывают наш мир, удивляются не просто нашему героизму, стойкости. Уже сейчас нас воспринимают как авангард, потому что мы инновационны. Мы раньше не воспринимали себя по своим комплексам, которые нам навязала россия. Мы не воспринимали, насколько мы мобильны в разных инновационных предложениях мира. И это не только из-за наших дронов, которые каждую неделю должны меняться, чтобы выстоять перед теми, кто, как демоны строят свое нападение, свою агрессию на копировании.
.jpg)
Они все время копируют. В 90-х годах они просто приезжали сюда, самых талантливых заинтересовывали деньгами, выдергивали и отправляли в Москву, где наши креаторы создавали для них нарратив. Сейчас они перехватывают наши инновации через неделю, сразу умеют через свою тоталитарную машину их конвеером увеличивать, и в этом они нас превышают. Поэтому наша возможность выжить не только в дронах, не только в технике их перевешивать, а именно в новом, которое должно постоянно меняться. Литература также даст нам эту опору идентичности, и в этой опоре мы все наше наследие, от средневековья до сегодня, должны не только для всего общества сделать той почвой, на которой мы будем стоять очень крепко. В то же время мы должны постоянно перечитывать или создавать новые какие-то произведения не вопреки традиции, а благодаря ей. Этих "разрывов" мы должны избавиться - мы должны "сшить" современную и классическую украинскую литературу.
Мы общество сейчас сшиваем, и культуру во время войны мы сшиваем для того, чтобы таким образом противостоять тем, кто нас постоянно разрушает. На самом деле культура сегодня от экономики к нашим эстетическим чувствам формирует нас каждый день. Харьков в этом смысле очень перспективный город.
Почему Вы так думаете?
- Потому что я ни в Киеве, ни во Львове, ни в других городах я не видела того, чтобы столь открыто культура шла сейчас к людям. Я сейчас шла к вам на студию и увидела Дину Чмуж – это художница и поэтесса, которая вышла из нашего музея. Она расписала эти ДСПшные квадраты, которыми сейчас закрываются окна, текстами современной украинской поэзии. Там можно прочесть отрывки Артема Полижаки, Макса Кривцова, Артура Дроня, Олега Каданова, Ивана Осенина. Мы говорили, что в 90-х ЛитМузей был как замкнутая диаспора в городе, гарлем, но сейчас мы расширяемся благодаря тому, что литература вышла на улицы. Литература вошла в связи с теми архитектурными достопримечательностями, которые сегодня есть – завтра нет.
Если вы спрашиваете меня, что сейчас происходит интересного в Литмузее, то сейчас после прилета ракеты происходит ремонт в Литмузее, а все наши события происходили в садике. Сегодня есть также такой тренд, что музей входит в коллаборацию с общеукраинскими и харьковскими интеллектуальными средами. Тоже "Город на линии" из MediaPort - как литература, которая есть в структуре культурного наследия, может убедить, что культурное наследие - это не руины, не то, что кацапы настроили, а то, что это здание, например, Госпром это знаковое конструктивистское сооружение, как раннемодерные здания. Сейчас пройдитесь: всюду идут экскурсии по улицам. Люди очень интересуются своим прошлым, чтобы открыть себя.
На эти экскурсии ходят харьковцы?
– Да. Но одновременно понятно, что сейчас есть связь между разными средами: архитекторов, музыкантов, занимающихся живописью, общинами, которые предлагают инновации или организуют помощь. Мы еще и музей, сотрудничающий с общественной организацией "Доброчинец". Мы проводим образовательные программы по современной украинской литературе в Высоком, где есть филиал нашего музея – музей Хоткевича, в селах Харьковщины, Донетчины, где с разными абсолютно структурами, фондами мы передаем литературу, рассказываем о ней, постоянно приезжаем с писателями. Та же Капитоловка, откуда Володя Вакуленко – детский поэт, убитый русскими. Векой Амелиной, которая к нам в ЛитМузей приезжала, был найден его дневник, потом были разнообразные программы, там сделали культурный центр в этой Капитоловке. Уже в Изюме, в Капитоловке, есть улицы Вакуленко, проводятся фестивали Вакуленко. То есть это как наш местный локальный слободской уровень, но в нем принимают участие писатели, принадлежащие и к Пен-клубу, к Союзу издателей, к Book Forum. К нам почти каждый день приезжают люди, которые для харьковчан создают некий непрерывный культурный процесс, куда ты попадаешь как в быстроходную реку.
Сегодня украинскую культуру в Харькове можно воспринимать горизонтально, на синхронном уровне. Для нас сегодня актуальны произведения тех писателей или художников, которые живут сейчас, и тех, кто жил в 1920-е годы. Например, тот же авангард Михаила Семенко, "Синие этюды" Волнового или Йогансена. И тех, что были в модерное время - Христя Алчевская, Игнат Хоткевич, Николай Вороный, Александр Олесь - те, кто создавал модерную украинскую литературу. Идём дальше в 19 век. Сегодня "Хартия" называет свои разговоры с Жаданом "Школой романтиков" - это харьковская школа романтиков начала 19 века, когда собственно формировалась новая украинская культура. То есть и до Сковороды. Сковорода – это патрон нашего города. Вы видите, что коллаборация сейчас очень важна между всеми, чтобы сделать наследство инструментом формирования будущего. Выставки и другие синергетические программы предложений писателей к обществу это очень важно. А также включение литературы во все звенья нашей сегодняшней жизни. Это сегодня очень-очень важно.
.jpg)
Насколько литература сейчас включена в разные звенья нашей жизни?
– Мы говорили с вами о культуре добродетели. Это о том, как культура формирует наши отношения между собой, нашу среду. Это синергия разных видов культуры, искусств для того, чтобы через взаимосвязи художественного текста с театром, с музыкой. Например, те же Дни музыки - там тоже без Литмузея не обходится.
Это патроны нашего города. Может кто-то не будет читать "Наркис" Сковороды - трактат философский, но будет знать, что есть улица Сковороды, есть маршруты, по которым он ходил из Бурсы в Кладбище, на котором учил своих учеников не бояться смерти, что он продолжает быть здесь. Это разнообразные формы путешествий, маршрутов по миру, которые тоже проводятся в разных играх. Игровых программ очень много. Марина Куценко проводит и по резиденции "Слово" - маршруты, по которым путешествовали украинские писатели 20-х годов. То есть это география.
Или, к примеру, мы сейчас разработали такую программу. Она называется "Варто", где мы работаем с младшими школьниками по реконструкции украинской истории от ледникового периода до сегодняшнего дня по художественным книгам современных детских авторов. Или с детьми делаем комиксы на произведения Игната Хоткевича в Высоком, в его усадьбе, которая является филиалом нашего музея. Мы стараемся привлекать детей. Если человек погружен в культуру, интегрированный в культуру, то он по-другому будет коммуникировать в разных сферах жизни, в которых он планирует участвовать или участвовать.
Как ветеранка Литмузея могу сказать, что на этом отрезке существования музея, сначала мы были, по Стусу, "крошечной шоптой", а в нулевых уже были институтом, который боролся за себя, о котором хорошо знали общественные активисты, культурные деятели из разных сфер: опера у нас была, и театры хорошо. Уже с этого момента, особенно, я думаю, с Революцией Достоинства музей стал локацией не для отдельных пузырьков, которые сюда заходят, а для людей, которые сами хотят сюда прийти.
Могу сказать, что сейчас модно приходить в ЛитМузей. Люди, которые сюда приходят, потом кичатся этим, ведь: "Ну как можно жить в Харькове и ни разу не посмотреть разные выставки и не поговорить с ЛитМузейниками?". То есть ЛитМузей это сейчас модно.
Но ведь это, наверное, не массовое явление. Туда приходит преимущественно интеллигенция, не правда ли?
– Это молодежь преимущественно. Это определенные молодежные круги, которые сегодня активны и которые войну с россией воспринимают как личное дело. Для нас очень важно, чтобы музей стал местом силы в целом для общества. Это наша миссия, чтобы сюда приходили люди с чувством свободы, потому что свобода для Харькова и Слобожанщины главной ценностью. Нам бы хотелось, чтобы не только большое количество людей, чувствующих себя свободными, приходило в музей, а чтобы это стало массовым явлением для Харькова в будущем. Чтобы музей был и в своей локации, и чтобы музея с его идеалами и коллаборациями было много по всему Харькову.
Вы хотите сделать какие-то небольшие филиалы Литмузея в Харькове?
– Нет. Мы провели уличные выставки. "Собственные названия" – это была наша уличная выставка, "Цвет города" – это о Квитке-Основьяненко и его окружении, которые от лояльности к империи становятся основателями украинской литературы начала этого столетия. Сейчас эта выставка на Подоле в Киеве, но наверняка она к нам вернется и, возможно, будет стоять где-то в метро.
Моя величайшая мечта сделать простор Харькова пространством украинской поэзии со времен начала 18 века по крайней мере, когда первые поэтические произведения стали известны, потому что они все были здесь написаны и были частью этих локаций. Я хочу, чтобы мы могли подойти в какое-то пространство, где будет поэзия начала 18 века, чтобы все знали, что Семен Климовский написал "Ехал казак за Дунай" и что это был европейский шлягер в 19 веке.
И написан ли он был в Харькове?
– Да! Например, также Квитки-Основьяненко "Сердешная Оксана" была также очень популярна во французских переводах 40-х годов 19 века. Что по улицам Харькова ходили Мария Вилинская, Марко Вовчок. Что там, где сейчас Клуб милиции, был центр, где формировалась украинская культура Слобожанщины. Что здесь дом Бекетовых-Алчевских, вот там неподалеку от метро Бекетова, а еще дом "Слово". Что здесь квартира Шевелева, наши резиденции, здесь собирались шестидесятники. Вот в таком ключе – как они жили, что они делали. Чтобы приходя на любую улицу, даже через QR-код какой-то о том, что это за улица, кто здесь жил из художников, писателей, других культурных деятелей, мы свое пространство адекватно воспринимали. Наше пространство – это свобода творчества.
Почему именно Харьков стал центром литературных художников? Только потому что он в тот момент был столицей?
– Нет. Идея состоит в том, что Харьков и Киев – это консерватизм и эксперимент. Киев – всегда консервативная структура, вертикальная, высокие духовные ценности. Харьков – это горизонталь, это эксперимент, мечта, разные инновационные поиски. В начале 1920-х годов именно эти интенции были наиболее характерны для поколения, которое решило творить новую культуру, не задумываясь еще, какие им будут навязываться идеологические стереотипы. Они мыслили новыми формами – политический детектив, новые верлибровые формы, поэзия в прозе. Это было уже в начале 20 века, но зарождалось именно в Харькове.
.jpg)
Это мы говорим о Волновом?
- Волновой, неоромантика, синкретично-импрессионистические, неоромантические разные формы, короткие эссеистические произведения – это происходило именно из Харькова.
Почему Харьков?
- Если для Киева были характерны консервативные традиции, духовные идеалы, то здесь, в Харькове, это, прежде всего, идеал свободы - не милосердие или какие-то христианские высокие ценности, укоренившиеся в Киеве. Не случайно же эти площади из Киева начались, когда мы все стекаемся, когда необходимо, чтобы общество что-то решало. А в Харькове и в литературе, и в науке – во всех абсолютно сферах наибольшая ценность – это свобода, мечта что-то создать.
Именно поэтому Харьков, даже как столица, это была столица социального эксперимента – этой октябрьской идеологии. Так же авангард весь, независимо от того, присваивают себе кацапы этот авангард десятых лет прошлого века – того же Бурлюка или Хлебникова, но оно все отсюда ушло! Из Харькова и его окрестностей, потому что все новое, что рождается в культуре, рождается здесь, а затем усовершенствуется где-нибудь. Мы город с главным критерием жизни – воля. Свободный город свободных людей – это о нас. Не так, как где угодно: у нас никогда таких конфликтов межрасовых, межэтнических особо не было. Это город открытых людей, поэтому эта открытость и свобода, по всей видимости, укоренена здесь настолько, что сколько бы отсюда не уехало людей, сколько бы рашка не хотела нас истребить, но отсюда все равно будет из основания будет прорастать, потому что Харьков – это земля свободы творчества.
Как повлияла на харьковскую литературу близость к границе с Россией, еще раньше русской империей?
– Еще в начале 20 века наши художественные национально-культурные среды формировались в окружении русского культурного господства – та же самая семья Алчевских. Это была русскоязычная семья вне, но внутри себя они уже питали украинское и стремились детям передать эту украинскую традицию. То есть сами они еще они разговаривали по-русски, потому что почти все были задяны в разных государственных структурах, а их дети - та же Христя, Иван, Анна, все их друзья - это было уже принципиально украиноязычное окружение. Они так для себя решили, что они будут идти по тому пути, чтобы благодаря культуре ставить перед собой вопросы унезалежнення. Старшее поколение – это как бы эволюция культуры, а эти уже ставили перед собой политические вопросы, работая в лоне литературы и культуры. Можно сказать о том, что им было очень нелегко: часто во время фестивалей, разных концертов, мероприятий, люди из их среды, то есть люди русскоязычные, над ними смеялись: "Зачем тебе этот мужицкий язык? Зачем это ты будешь языком крестьян петь песни или устраивать там какие-то дискуссии". Тогда это назывался язык культуры и мужицкий язык.
Я сейчас прочла воспоминания о киевской семье Старицких и Лысёнок. То, что они чувствовали, описывает главенствующая член нашего общества грамотности в Харькове - О'коннор Вилинская. Родители ее были из Ирландии, а мама из семьи Лысенко. Она говорит о том, какие унижения постоянно терпел тот же Михаил Петрович Старицкий, когда, например, придумывал новые украинские слова, которыми сейчас активно пользуемся. Я могу это понять. Когда мы в начале 90-х совершали первые акции на Майдане Дзержинского, нас окружали люди, которые начинали показывать пальцы на нас и говорить: "Посмотрите, бомжары вышли!" Сейчас это звучит дико. Но я все это переживала. Помню, что мы делали выставку 1993 года "Путь к загорной коммуне" к веку Волнового. Как раз тогда Жадан и сейчас директор музея Таня Пилипчук пришли в музей. Я помню, что мы вечером как-то пошли на собрание какое-нибудь на площади. У меня не было сапог таких, потому что должны были приехать из Диаспоры, и из Диаспоры мне какое-то пальто прислали. Никогда не забуду, как какая-нибудь тетя вцепилась мне в пуговицу и кричала: "Посмотрите, бомжи! Это все, что они нам со своей Украиной несут!".

Это россиянка говорила?
– Нет, харьковчанка. В начале 90-х нас воспринимали как людей дна наши же горожане. Нам говорили, что мы безработные, что стоим за американские доллары. В тогдашних новостях нас показывали как неких шизофреников. Этим хотели доказать, что Украина и украинское - это то, что ниже плинтуса, люди не в своем уме, которые вылезли из подвала. Так нас воспринимал Харьков. Их было иногда больше, чем нас, пришедших за легализацией украинской символики пикет делать. Украинское воспринималось как такое, что сразу ставит на тебе клеймо.
Это как параллель к воспоминаниям Вилинской О'коннор и эти две семьи - насколько тогда в этой элите среди потомков украинской старшины было сложное положение. Их окружение тогда смеялось и унижало их, когда они решили для себя, что сами и своих детей будут проводить в направлении развития глубинной украинской культуры, и что они являются частью этой украинской стихии, которая в то время, скажем, не владела письмом, ведь на начало 20 века Украина была наименее грамотной во всей Российской империи. Это сознательная политика, но при всем этом тоже надо задуматься над тем, что весь так называемый российский авангард: Малевич, Экстер и так далее, все вышли из украинских изразцов на печах и украинской орнаментики.
Те же сестры Синяковой и все кубофутуристы, которые к ним сюда приезжали, были в бешеном восторге от этой народной культуры, которая не могла из себя в течение целого века выйти, но которая весь свой труд строила на каких-то культурных осмыслениях: и художественных, и литературных. Когда они увидели, насколько это богатый такой материал, которым нельзя не восхищаться. Они сказали, что мы – элита, но мы дети этого народа, для которого должны работать.
Так было в начале 20 века. Они уже тогда очень жестко противопоставляли свою культуру русскому языку и очень суровая такая ирония вплоть до сарказма была направлена к русской культуре. Пример семьи Косачей, не отдавших в официальной гимназии своих детей. Елена Пчилка Лесю Украинку воспитывала дома. Это было домашнее воспитание. Они не хотели отдавать ребенка в школу для того, чтобы ломалась психика. Мы потому и неграмотны были потому, что дети, которые приходили учиться в русскую школу, это не был их материнский язык. И она им была чужда не только лексически, но и по духу.
Читайте также: Директор центра занятости в Харькове Александр Котуков: Будущее бизнеса – работа в подземных помещениях